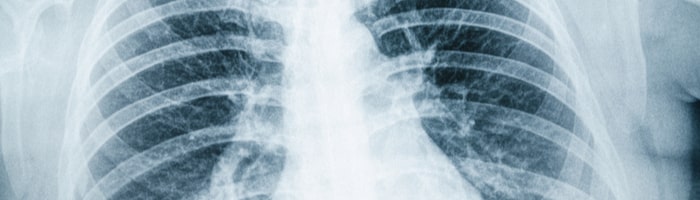
А.А. ВИЗЕЛЬ, д.м.н., профессор, И.Ю. ВИЗЕЛЬ, к.м.н., Г.В. ЛЫСЕНКО, Казанский государственный медицинский университет Минздрава России
В статье представлен обзор данных исследований, посвященных заболеваемости и смертности от внебольничной пневмонии в разных странах мира. Приведены данные Республики Татарстан за последние два десятилетия.
Инфекции нижних дыхательных путей были и остаются одной из ведущих причин заболеваемости и смертности трудоспособного населения. Ведущей причиной летальных исходов в начале 1900-х гг. была пневмония, и в XXI в. она осталась в десятке лидеров причин смерти человека.
В 2006 г. в РФ было зарегистрировано 591 493 случая внебольничной пневмонии (ВП) при наибольшей заболеваемости в Сибирском и Северо-Западном федеральных округах и наименьшей -- в Центральном федеральном округе [1]. Заболеваемость пневмонией в РФ в 2011 г. была 365,4 на 100 тыс. взрослого населения, а в 2012 г. -- 374,1 на 100 тыс. соответственно. В период с 1992 по 2002 г. уровень заболеваемости ВП военнослужащих по призыву в вооруженных силах возрос в 6,6 раза, а офицерского состава -- в 1,8--1,9 раза. В 2000--2002 гг. удельный вес пневмоний в структуре всех болезней военнослужащих по призыву составил 6%, а доля дней трудопотерь -- 11,2% [2]. Существенное влияние на заболеваемость пневмонией среди военнослужащих оказало проведение пневмококковой вакцинации. Так, в довакцинальный период (2000--2001 гг.) средний уровень заболеваемости ВП у лиц, проходящих службу по призыву, был наиболее высоким за весь период наблюдения -- 53,7‰. Снижение этого показателя в 1,5 раза -- до 36,9‰ -- произошло в 2002 г. и было связано с началом применения 23-валентной вакцины [3].
Тем не менее в целом в России заболеваемость населения ВП не снижается. В г. Междуреченске Кемеровской области за 10 лет (1999--2008 гг.) заболеваемость пневмонией увеличилась на 12% -- с 586 до 657 на 100 тыс. населения [4]. В Хабаровском крае среди госпитализированных пациентов преобладали лица с нетяжелым течением ВП, но с наличием факторов неблагоприятного течения и прогноза (52,3%), и только 22,6% имели тяжелое течение ВП [5].
Наряду с внебольничными пневмониями в последние годы все чаще описывают пневмонию, связанную с оказанием медицинской помощи, при которой отмечено тяжелое течение, двустороннее поражение, длительный период госпитализации и ведущая роль грамотрицательной флоры, требующей назначения сочетания респираторных фторхинолонов с цефалоспоринами III генерации. Исследования, проведенные за рубежом, показали, что летальность на 30-й день была в 2 раза больше среди госпитализированных больных пневмонией, связанной с услугами здравоохранения, чем с ВП (13,4 против 6,4%) [6].
В период пандемии гриппа (2009--2010 гг.) в Республике Марий-Эл среди 530 больных с первичным диагнозом ОРВИ у 35% была выявлена вирусно-бактериальная пневмония с двусторонним поражением легких. В каждом третьем случае течение болезни было тяжелым, требующим интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких. Крайне тяжелое, угрожающее жизни течение вирусно-бактериальных пневмоний было отмечено в тот же период времени и в Татарстане [7].
Авторы последней монографии Европейского респираторного общества по ВП отметили, что в МКБ-10 отсутствует код, соответствующий именно ВП, и поэтому популяционные данные могут отражать общие показатели для ВП и других инфекций нижних дыхательных путей [8]. В Европе среднегодовая заболеваемость ВП у взрослых была 1,07--1,2 на 1 тыс. жителей в год и 1,54--1,7 на 1 тыс. в популяции, а в старших возрастных группах -- 14 на 1 тыс. человеко-лет. Заболеваемость была выше у лиц с хроническими респираторными заболеваниями и ВИЧ-инфекцией, а также у мужчин по сравнению с женщинами. В 2--4 раза повышали риск развития ВП такие состояния, как хронические легочные и сердечно-сосудистые заболевания, цереброваскулярная патология, болезнь Паркинсона, эпилепсия, деменция, дисфагия, ВИЧ, хронические болезни печени и почек [9].
В заболеваемости пневмонией в Северном полушарии была отмечена сезонность. Так, на основании анализа публикаций с 1948 по 2012 г. в базах MEDLINE, Embase и CINAHL было установлено, что 34% обращений с ВП было весной, 18% -- осенью, 26% -- зимой и 22% -- летом. Госпитализации были наиболее частыми зимой и весной при пике в декабре (20,5%) и январе (25,1%). Сибирские исследователи также отмечали, что наблюдались сезонные колебания не только заболеваемости, но и локализации ВП. Среди молодых мужчин летом правосторонняя локализация отмечалась в 73,1% случаев, а среди молодых женщин -- в 47,6%; среди старшего поколения -- наоборот: 55,3 и 79,3% соответственно [10].
В США ВП -- наиболее частая инфекция, приводящая к госпитализации. Заболеваемость ВП в этой стране по данным на 2011 г. колебалась в пределах 5--11 на 1 тыс. населения при более высоких значениях среди пожилых. Результаты анализа данных системы Medicare в Пенсильвании (США) в течение календарного 2007 г. показали что госпитализация понадобилась в 39% случаев, а средняя продолжительность случаев, потребовавших госпитализации и пролеченных амбулаторно, была 32,8 ± 46,9 и 12,4 ± 27,3 дня соответственно, и общая заболеваемость составила 4 482/100 тыс. человеко-лет. Эпидемиологические исследования в той же системе США в 2005--2007 гг. показали, что ежегодная кумулятивная выровненная по возрасту заболеваемость пневмонией была 47,4 на 1 тыс. жителей (13,3 на 1 тыс. первично госпитализированных) и увеличивалась с возрастом; в половине случаев больные лечились в стационарах [6].
Среди жителей провинции Бандалона (Испания) при анализе 581 случая ВП в 2008--2009 гг. распространенность составила 0,64% (95% ДИ 0,5--0,7); заболеваемость -- 3,0 случая на 1 тыс. жителей (95% ДИ 0,2--0,5), 41,5% были госпитализированы (ДИ -- доверительный инервал. -- Прим. ред.). В одной из северных провинций Испании Гипускоа заболеваемость ВП жителей старше 14 лет составила 8,3 случая на 1 тыс. жителей в год, частота госпитализаций в период исследования составила 28,6% и не была связана с сопутствующими заболеваниями или возрастом. В Австралии ВП составляет 2% от всех круглосуточных госпитализаций [11].
В последней зарубежной монографии отмечено, что среди взрослого населения Европы в целом заболеваемость ВП варьируется в пределах 1,07--1,20 на 1 тыс. жителей в год и 1,54--1,7 на 1 тыс. в популяции [8].
ВП как причина смерти
ВП является одной из ведущих причин смерти от инфекционных болезней. По данным ВОЗ, инфекции нижних дыхательных путей занимают 3-е место (после инфаркта и инсульта) в мировой статистике летальных исходов 2011 г.
В Самарской области было проанализировано 642 истории болезни больных ВП, прошедших через отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). Летальность составила в 2000 г. 25%, в 2010 г. -- 22% [12].
Несмотря на внедрение новых антибиотиков, смертность от инфекций оставалась относительно высокой в течение последних десятилетий, являясь не снижающейся по своей актуальности проблемой здравоохранения. В течение ХХ в. смертность от инфекционных заболеваний варьировалась год от года, особенно среди младшей и старшей возрастных групп населения. В США в период с 1900 по 1996 г. за 8 десятилетий смертность от инфекций снизилась с 979 на 100 тыс. в 1900 г. до 36 на 100 тыс. населения в 1980 г. В период с 1981 до 1995 г. смертность увеличилась до 63 на 100 тыс. населения в 1995 г. и снизилась до 59 в 1996 г. В начале ХХ в. прекращение снижения смертности было обусловлено эпидемией гриппа в 1918 г. С 1938 до 1952 г. снижение происходило быстрее -- на 8,2% в год. В течение ХХ в. ведущую роль в инфекционной смертности играли пневмония и грипп. В период с 1980 г. до начала 1990-х гг. смертность от инфекционных заболеваний увеличилась среди лиц в возрасте 25 лет и старше в связи с распространением ВИЧ-инфекции и в меньшей степени -- в связи с ростом смертности от пневмонии и гриппа среди лиц 65 лет и старше. В 2009 г. пневмония в США занимала 8-е место среди причин смерти. В 2006 г. в США было госпитализировано 1,2 млн больных ВП, 55 477 умерли от этого заболевания. Среди больных ВП, получавших помощь в амбулаторных условиях, летальность была менее 5%, тогда как среди госпитализированных -- более 10%, в ОРИТ -- более 30%. В Германии летальность среди госпитализированных с ВП варьировалась от 5 до 20%, порядка 50% -- в ОРИТ [13].
Большинство госпиталей США регулярно публикуют отчет о 30-дневной стандартизированной летальности от пневмонии. В Пенсильвании среди пожилых людей летальность на 30-й день составляла 8,5% для госпитализированных и 3,8% -- для амбулаторных больных ВП. В старших возрастных группах госпитальная летальность достигала 18% [14]. Однако объективность этого показателя зависит от кодирования нозологий как причины смерти: ВП, сепсиса или дыхательной недостаточности (ДН). Так, в 329 госпиталях США было исследовано влияние кодирования пневмонии на показатели госпитальной летальности. В анализ были включены взрослые, госпитализированные по поводу пневмонии (как с основным диагнозом, так и вторичным при первичных диагнозах сепсис или ДН) в период с 2007 по 2010 г. При ограничении кодирования пациентами только с первичным диагнозом ВП стандартизированный риск летальности был достоверно лучше, чем среднее, в 4,3% больниц и значительно хуже в 6,4%. Когда определение было расширено для включения пациентов с основным диагнозом сепсиса или ДН, этот показатель стал лучше, чем среднее, в 11,9% больниц и хуже в 22,8%, что изменяло статус в 28,3% случаев. На основании этого был сделан вывод, что применение первичного диагноза сепсис или ДН может смещать параметры сравнения качества работы больниц по исходам пневмонии [15]. По данным американских исследователей, объективно снизить летальность после перенесенной ВП может применение статинов.
В Аризоне (США) в группах больных из некоммерческих госпиталей за период с декабря 1997 по май 1998 г. летальность составляла 7%. В Чикаго за период с 1993 по 2005 г. среди 569 524 госпитализированных в связи с ВП летальность (выровненная по возрасту и полу) снизилась с 8,9% до 4,1% (р < 0,001). Те же авторы в течение 1987--2005 гг. сообщали о 2 654 955 случаях пневмонии, при которой выровненная по возрасту и полу летальность снизилась с 13,5 до 9,7% при относительном снижении на 28,1% (ОШ 0,46; 95% ДИ 0,44--0,47; ОШ -- отношение шансов. -- Прим. ред.). Эту тенденцию объясняли увеличением частоты вакцинации от пневмококка и вируса гриппа, равно как и более широким применением антибиотиков в соответствии с существующими руководствами [16]. В США из 2 076 пациентов, госпитализированных в 32 отделения неотложной помощи, летальный исход констатирован у 141 больного (6,8%). В период с 1999 по 2010 г. в США было отмечено снижение смертности от пневмонии и гриппа на 35% -- с 23,4 до 15,1 на 100 тыс. населения. С 1999 по 2006 г. смертность от пневмонии у белых мужчин снизилась с 27,7 до 20,9 на 100 тыс. популяции, а у белых женщин -- с 20,8 до 15,5 на 100 тыс. популяции, среди черных -- с 32,4 до 24,4 и с 21,3 до 16,7 на 100 тыс. популяции соответственно [17]. В Канаде пневмония занимает 8-е место среди причин смерти [18].
В Испании общая госпитальная летальность от ВП составила 2,5. В клинике госпиталя Барселоны (Испания) было проанализировано 568 случаев ВП, лечившихся амбулаторно (средний возраст больных составил 47,2 ± 17,6 года; 110 из них (19,4%) были в возрасте 65 лет и старше). Летальность была низкой (3 пациента, или 0,5%). У взрослых в Гипускоа летальность от ВП составила 2,7% при среднем возрасте умерших 83,7 года и была связана только с возрастом. Среди больных, поступавших с ВП в гериатрические отделения неотложной помощи в Испании, летальность составляла 24,2% [20]. В Испании летальность при ВП была выше у больных с острыми сердечными состояниями (19,4 против 6,4%; р < 0,001). В ходе анализа в течение 12 лет данных 2 149 взрослых больных ВП в возрасте 65--74 года, 75--84 года и старше 85 лет по клиническим проявлениям, коморбидности, тяжести при поступлении, микробиологическим исследованиям, причинам антимикробной терапии и исходам выяснилось, что летальность увеличивалась с возрастом (65--74 года -- 6,9%; 75--84 года -- 8,9%; старше 85 лет -- 17,1%; р < 0,001) и была связана с увеличением коморбидности (неврологической; OР 2,1; 95% ДИ 1,5--2,1), индексом тяжести ВП (PSI) IV или V (OР 3,2; 95% ДИ, 1,8--6,0), бактериемией (OР 1,7; 95% ДИ 1,1--2,7), наличием полирезистентных патогенов (S. aureus, P. aeruginosa, Enterobacteriaceae; OР 2,4; 95% ДИ 1,3–4,3) и поступлнием в ОРИТ (OР 4,2; 95% ДИ 2,9--6,1) при мультивариантном анализе (ОР -- отношение рисков. -- Прим. ред.). Смертность у пожилых пациентов была связана прежде всего с наличием сопутствующих заболеваний и потенциально полирезистентных патогенов [19]. В Испании были исследованы случаи ВП, вызванной L. pneumophila у больных, госпитализированных в университетский госпиталь за 15-летний период (1995--2010 гг.): 38 из них (17,8%) требовали госпитализации в отделения интенсивной терапии, внутрибольничная летальность составила 6,1% (13 из 214 больных) [20].
Во Франции в ОРИТ в 2010 г. при ВП с развитием сепсиса летальность составляла 30,9% [21]. Исследование, проведенное в течение 24 мес. в 9 отделениях неотложной помощи госпиталей Италии, включало 1 214 больных ВП, 844 из которых были госпитализированы. Летальность в целом составила 8,5%. Сравнительное когортное исследование летальности от ВП у госпитализированных пациентов в трех континентальных регионах мира в период с 2001 по 2011 г. (6 371 случай) показало, что в Латинской Америке летальность составляла 13,3%, в Европе -- 9,1%, а в США/Канаде -- 7,3% (р < 0,001 между регионами). Существенно влияющими на летальность переменными были застойная сердечная недостаточность, цереброваскулярные заболевания, повышенный уровень азота мочевины крови, антибактериальная терапия (макролиды или фторхинолоны) и наличие предшествующей вакцинации (от гриппа, пневмококковая). После выравнивания по этим переменным разница в летальности между регионами значительно сократилась как для пациентов в ОРИТ, так и в общих отделениях [22]. В Нидерландах при анализе 395 случаев ВП 87,6% (346 больных из 395) были госпитализированы, 7,8% (31 из 395) больных поступили в ОРИТ, а 5,8% (23 из 395) умерли [23].
В исследовании, проведенном в Турции в 2005--2007 гг., 11,3% госпитализированных больных ВП потребовали применения механической вентиляции, а 6,2% умерли [24].
В Сеуле (Корея) при анализе инвазивного пневмококкового заболевания (ИПЗ) у 136 взрослых (61,8% -- пневмония) 30-дневная летальность составила 26,5%. В этой стране был проведен анализ 693 случаев ВП у лиц не моложе 50 лет из 11 госпиталей. Госпитальная летальность составляла 3,2% (при возбудителе S. pneumoniae -- 5,9%), а средняя продолжительность пребывания в стационаре -- 9 дней [25].
Опыт Республики Татарстан
В Республике Татарстан Министерство здравоохранения совместно с Казанским государственным медицинским университетом Минздрава России (далее – КГМУ МЗ РФ) проводит работу по мониторированию эпидемиологических показателей, качества оказания помощи и лечения больных ВП. При анализе показателя заболеваемости за последние 20 лет были отмечены его волнообразные колебания: от 313,1 на 100 тыс. взрослого населения в 1994 г. до 412,5 -- в 2013 г. Низкий уровень заболеваемости (265,1 на 100 тыс.) был отмечен в 1996 г., а высокий (448,6 на 100 тыс.) -- в 2012 г. В последние годы имела место тенденция к снижению летальности (2008 г. -- 4,27%; 2009 г. -- 4,13%; 2010 г. -- 4,62%; 2011 г. -- 3,22%; 2012 г. -- 3,17%, 2013 г. -- 3,50%). Смертность от ВП среди взрослого населения не имела существенной динамики (28 на 100 тыс. взрослого населения в 2000 г. и 28,4 -- в 2012 г.). Следует отметить существенное снижение продолжительности стационарного этапа лечения этих больных с 21,5 койко-дня в 1996 г. до 11,4 койко-дня -- в 2013 г. Анализ частоты назначений антибактериальных препаратов в стационарах показал, что за последние 15 лет существенно изменился их спектр: если в 1999 г. тремя наиболее часто назначаемыми группами антибиотиков были пенициллины, аминогликозиды и макролиды, то в 2011 г. ими стали цефалоспорины III генерации, макролиды и фторхинолоны. Последнее свидетельствует о максимальном приближении реальной практики в Татарстане к федеральным рекомендациям. При анализе факторов прогноза течения ВП в период с 2009 по 2011 г. негативными факторами были ВИЧ-инфекция, гепатиты различного генеза, наличие туберкулеза в анамнезе. Улучшали прогноз течения и выживаемость больных пребывание в пульмонологических отделениях и просто участие врача-пульмонолога в лечении ВП. Следует отметить постоянную работу с врачами в Татарстане с выездом специалистов в районные больницы, проведение конференций с приглашением федеральных лидеров -- разработчиков федеральных стандартов и клинических рекомендаций, доступность образовательных материалов на сайтах Минздрава Республики Татарстан и КГМУ МЗ РФ, привлечение врачей к участию в вебинарах, проводимых Российским респираторным обществом [26, 27].
Таким образом, анализ основных эпидемиологических данных показал, что ВП во всем мире остается распространенным инфекционным поражением легких с неснижающейся летальностью. Постоянная образовательная, аналитическая и консультативная работа в Республике Татарстан позволяет удерживать заболеваемость и смертность от ВП в относительно благополучном диапазоне, не допуская их роста.
Литература
1. Чучалин А.Г., Синопальников А.И., Козлов Р.С., Тюрин И.Е., Рачина С.А. Внебольничная пневмония у взрослых: практические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике. Пособие для врачей. М., 2010.
2. Жоголев С.Д., Огарков П.И., Мельниченко П.И. Эпидемиологический анализ заболеваемости внебольничной пневмонией в войсках. Военно-медицинский журнал, 2004, 3: 16-21.
3. Ярославцев В.В., Сабанин Ю.В., Касько О.В., Рыбин В.В., Рихтер В.В., Заволожин В.А. Внебольничная пневмония у военнослужащих внутренних войск МВД России: особенности эпидемического процесса. Военно-медицинский журнал, 2011, 11: 40-43.
4. Ханин А.Л., Чернушенко Т.И. Проблемы болезней органов дыхания и возможные пути их решения на уровне муниципального здравоохранения. Пульмонология, 2012, 2: 115-118.
5. Молчанова О.В. Внебольничная пневмония в Хабаровском крае. Эпидемиологические аспекты. Дальневосточный журнал инфекционной патологии, 2010, 16: 77-81.
6. Thomas CP, Ryan M, Chapman JD, Stason WB, Tompkins CP, Suaya JA, Polsky D, Mannino DM, Shepard DS. Incidence and cost of pneumonia in medicare beneficiaries. Chest, 2012, 142 (4): 973-981.
7. Фаррахов А.З., Голубева Р.К., Визель А.А., Хасанов А.А., Анохин В.А., Ванюшин А.А. Первый опыт работы с пандемическим гриппом тяжелого течения, осложненным пневмонией. Вестник современной клинической медицины, 2009, 2 (4): 4-11.
8. Singanayagam A, Chalmers JD, Welte T. Epidemiology of CAP in Europe. Eur. Respir. Monogr., 2014, 63: 1-12.
9. Torres A, Peetermans WE, Viegi G, Blasi F. Risk factors for community-acquired pneumonia in adults in Europe: a literature review. Thorax, 2013, 68 (11): 1057-1065.
10. Добрых В.А., Никулина В.А., Мун И.Е., Бондаренко О.А., Макаревич А.М., Агапова О.М. Связь возрастного и гендерного факторов с локализацией и течением односторонней внебольничной пневмонии. Бюллетень физиологии и патологии дыхания, 2013, 49: 30-32.
11. Murdoch KM, Mitra B, Lambert S, Erbas B. What is the seasonal distribution of community acquired pneumonia over time? A systematic review. Australas Emerg. Nurs. J., 2014, 17 (1): 30-42.
12. Бородуллин Б.Е., Черногаева Г.Ю., Бородуллина Е.А., Поваляева Л.В., Виктор Н.В. Летальность от внебольничной пневмонии в условиях многопрофильной больницы за 30 лет. Медицинский альманах, 2012, 2 (21): 34-36.
13. Nair GB, Niederman MS. Community-acquired pneumonia: an unfinished battle. Med. Clin. North. Am., 2011, 95 (6): 1143-1161.
14. Aliberti S, Kaye KS. The changing microbiologic epidemiology of community-acquired pneumonia. Postgrad. Med., 2013, 125 (6): 31-42.
15. Rothberg MB, Pekow PS, Priya A, Lindenauer PK. Variation in diagnostic coding of patients with pneumonia and its association with hospital risk-standardized mortality rates: a cross-sectional analysis. Ann. Intern. Med., 2014, 160 (6). doi: 10.7326/M13-1419.
16. Ruhnke GW, Coca-Perraillon M, Kitch BT, Cutler DM. Marked reduction in 30-day mortality among elderly patients with community-acquired pneumonia. Am. J. Med., 2011, 124 (2): 171-178.
17. Reddick B, Howe K. The impact of pneumonia guidelines and core measures on patient-oriented outcomes. N. C. Med. J., 2013, 74 (5): 434-437.
18. Halpape K, Sulz L, Schuster B, Taylor R. Audit and feedback-focused approach to evidence-based care in treating patients with pneumonia in hospital (AFFECT Study). Can. J. Hosp. Pharm., 2014, 67 (1): 17-27.
19. Cillóniz C, Polverino E, Ewig S, Aliberti S, Gabarrús A, Menéndez R, Mensa J, Blasi F, Torres A. Impact of age and comorbidity on cause and outcome in community-acquired pneumonia. Chest, 2013, 144 (3): 999-1007.
20. Calle A, Márquez MA, Arellano M, Pérez LM, Pi-Figueras M, Miralles R. Geriatric assessment and prognostic factors of mortality in very elderly patients with community-acquired pneumonia. Arch. Bronconeumol., 2014, Mar., 11. pii: S0300-2896(14)00063-5.
21. Georges H, Journaux C, Devos P, Alfandari S, Delannoy PY, Meybeck A, Chiche A, Boussekey N, Leroy O. Improvement in process of care and outcome in patients requiring intensive care unit admission for community acquired pneumonia. BMC Infect Dis., 2013, 13: 196.
22. Arnold FW, Wiemken TL, Peyrani P, Ramirez JA, Brock GN; CAPO authors. Mortality differences among hospitalized patients with community-acquired pneumonia in three world regions: results from the Community-Acquired Pneumonia Organization (CAPO) International Cohort Study. Respir. Med., 2013, 107 (7): 1101-1111.
23. De Jager CP, Wever PC, Gemen EF, Kusters R, van Gageldonk-Lafeber AB, van der Poll T, Laheij RJ. The neutrophil-lymphocyte count ratio in patients with community-acquired pneumonia. PLoS One, 2012, 7 (10): e46561.
24. Pişkin N, Aydemir H, Oztoprak N, Akduman D, Celebi G, Seremet Keskin A. Factors effecting the duration of hospitalization and mortality in patients with community-acquired pneumonia. Mikrobiyol. Bul., 2009, 43 (4): 597-606.
25. Yoo KH, Yoo CG, Kim SK, Jung JY, Lee MG, Uh ST, Shim TS, Jeon K, Shim JJ, Lee HB, Chung CR, Kang KW, Jung KS. Economic burden and epidemiology of pneumonia in Korean adults aged over 50 years. J. Korean Med. Sci., 2013, 28 (6): 888-895.
26. Хамитов Р.Ф., Никитина Р.Б. Фторхинолоны в лечении пациентов, госпитализированных с внебольничной пневмонией. Казанский мед. ж., 2011, XCII (1): 1-4.
27. Шаймуратов Р.И., Лысенко Г.В., Визель А.А. Структурный анализ состояния пациентов, поступивших в стационары Республики Татарстан, со смертельным исходом от внебольничной пневмонии за 2012 год. Вестник современной клинической медицины, 2012, 6 (40): 25-29.
Источник: Медицинский совет, № 16, 2014








